А все-таки
А все-таки
Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.
Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.
И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами подмышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
1914 г, Владимир Маяковский
Сегодня, 14 апреля, день памяти Владимира Маяковского.
До определённого момента, знала этого поэта лишь как певца Революции, представителя своей эпохи.
Но не всё его творчество овеяно красными знамёнами, пропитано маршами и речёвками. Есть стихи сострадательные, глубокие, милые. Мне импонирует образ этого большого человека. Человека многогранного, думающего, экстравагантного, доброго.
В его поэзии, иногда грубой и вульгарной, скрывается потаённый смысл, душа ранимого человека.
В литературный мир Маяковский ворвался ярко, дерзко, в полосатой жёлтой кофте, которую сшила мама с сестрой. Со сцены начинающий футурист не боялся во весь голос, и глядя в глаза публике, говорить о пороках буржуазного общества.
Ушёл он также ярко. В последние годы жизни в его творчестве появились трагические мотивы и разочарование…
Бывал Владимир Владимирович и в Воронеже.
Приехал в ноябре 1926 года, на один день. После лекции-концерта в театре чаёвничал до четырёх утра в Вигелевском переулке, ныне улица Вайцеховского, с местными поклонниками. В доме, где квартировал врач-невропатолог Раппопорт, любитель искусства, собралось много людей. Звучали рифмы, смех, душевные разговоры. Маяковский отбыл в столицу со стихами воронежских поэтов подмышкой, обещая опубликовать их в журнале «Новый ЛЕФ». Обещание своё сдержал…

#хлам (художники, литераторы, артисты, музыканты)
Река — сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.
Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.
Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я — ваш поэт.
Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.
И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова — судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами подмышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.
1914 г, Владимир Маяковский
Сегодня, 14 апреля, день памяти Владимира Маяковского.
До определённого момента, знала этого поэта лишь как певца Революции, представителя своей эпохи.
Но не всё его творчество овеяно красными знамёнами, пропитано маршами и речёвками. Есть стихи сострадательные, глубокие, милые. Мне импонирует образ этого большого человека. Человека многогранного, думающего, экстравагантного, доброго.
В его поэзии, иногда грубой и вульгарной, скрывается потаённый смысл, душа ранимого человека.
В литературный мир Маяковский ворвался ярко, дерзко, в полосатой жёлтой кофте, которую сшила мама с сестрой. Со сцены начинающий футурист не боялся во весь голос, и глядя в глаза публике, говорить о пороках буржуазного общества.
Ушёл он также ярко. В последние годы жизни в его творчестве появились трагические мотивы и разочарование…
Бывал Владимир Владимирович и в Воронеже.
Приехал в ноябре 1926 года, на один день. После лекции-концерта в театре чаёвничал до четырёх утра в Вигелевском переулке, ныне улица Вайцеховского, с местными поклонниками. В доме, где квартировал врач-невропатолог Раппопорт, любитель искусства, собралось много людей. Звучали рифмы, смех, душевные разговоры. Маяковский отбыл в столицу со стихами воронежских поэтов подмышкой, обещая опубликовать их в журнале «Новый ЛЕФ». Обещание своё сдержал…

#хлам (художники, литераторы, артисты, музыканты)
Предыдущий пост: О чём поют воронежские колокола
Следующий пост: Мой Воронеж. В лето на Харлее
Комментарии:

14.04.2025 17:45
Ольга, Москва, м. Лубянка # пост
... Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское...
Облако в штанах
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское...
Облако в штанах

14.04.2025 21:00
Татьяна, Россия, Воронеж # комм.
Спасибо, Ольга, что поддержали пост о Маяковском.
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ
Били копыта. Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные…
Улица опрокинулась,
течет по-своему…
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шЕрсти…
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошлА?,
только
лошадь
рванулась,
встала нА ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
1918 г.
ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ
Били копыта. Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные…
Улица опрокинулась,
течет по-своему…
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шЕрсти…
И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошлА?,
только
лошадь
рванулась,
встала нА ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
1918 г.

14.04.2025 18:23
Роман, Москва, м. Ховрино Анкета удалена # пост
Бесспорно он являлся яркой неординарной личностью, бывал даже в его музее, но поклонником его творчества никогда не был.

14.04.2025 21:14
Татьяна, Россия, Воронеж # комм.
Роман, добрый вечер. Спасибо, что заглянули в блог. Спасибо за мнение... 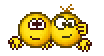
Многие фразы из творчества Маяковского на слуху.
ПОСЛУШАЙТЕ!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевОчки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полУденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мУку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
1914 г.
Многие фразы из творчества Маяковского на слуху.
ПОСЛУШАЙТЕ!
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевОчки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полУденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мУку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
1914 г.

14.04.2025 21:29
Татьяна, Россия, Воронеж # комм.
ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ
Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени Она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гОло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя нА ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорОгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, орЯ.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
1922 г.
